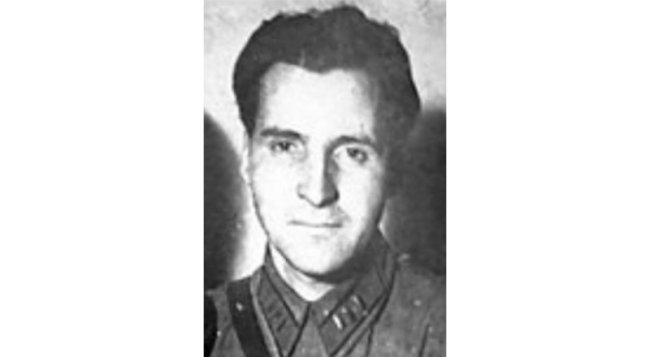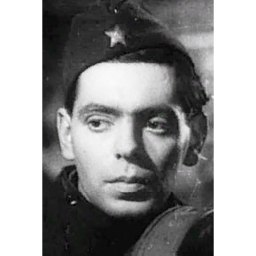✔ «Ожиданием своим...» - «История»
Turner 11-ноя, 07:30 193 Новости АРКМы продолжаем вспоминать жизнь и людей советской эпохи, оставивших заметный след в истории, культуре, политике нашей державы, на все времена. Узнавать что-то неизвестное или забытое, незнакомое - о знакомых. Этого поэта можно, без сомнения, назвать и другом «Крымской правды», ведь дружба та, доброе отношение, зародились ещё в Великую Отечественную, ещё когда газета называлась «Красный Крым». Но даже не с неё, всё же вначале, а с изданием сформированной в Крыму 51-й армии «Сын Отечества». Его основу и составляли «краснокрымовцы», точно знаем, Мария Архарова, Михаил Соловьёв, Леонид Яблонский - с фотокором поэт потом неоднократно встречался на фронте. Поэт - Константин Симонов - приезжал в Крым и после войны, был гостем нашей газеты как секретарь Союза писателей СССР. 15 ноября (по старому стилю) исполняется 110 лет со дня рождения Константина Михайловича.
Война и литература
Правда, изначально при рождении мальчик, сын дворянина, генерал-майора Михаила Агафангеловича и княжны Александры Леонидовны, был Кириллом, так родители назвали его, родившегося в Петрограде 15 ноября (28-го по новому стилю) 1915-го. Константином стал сам уже в 24 - переживал, что так и не научился выговаривать твёрдое «л» и «р», буквы имени. Мальчик рано остался без отца, который служил начальником штаба 43-го армейского корпуса в Первую мировую войну, в нашей стране с октября 1917-го перетёкшую в Гражданскую: принимать революцию и воевать за или против неё боевой офицер Михаил Агафангелович не захотел, эмигрировал. Александра Леонидовна осталась с маленьким сыном уже в Советской России, вышла замуж за Александра Иванишева, преподавателя военного училища, бывшего полковника имперской армии. Считается, что именно полюбивший и усыновивший мальчика Александр Григорьевич настоял, чтобы фамилия у парня была родного отца - Симонов. И от родного, и от отчима Кирилл-Константин перенял тягу к военной службе, а от мамы, княжны Оболенской, перешёл литературный дар. Жизнь семьи проходила в основном в военных городках, но, несмотря на тягу к военной службе и окружение, после школы-семилетки, оконченной в Саратове, Кирилл Симонов поехал в Москву, в фабрично-заводское училище точной механики, несколько лет поработал на авиационном заводе - тоже военное дело. Потом, понимая тягу к творчеству и желая заниматься ею профессионально, поступил в Литературный институт имени Максима Горького, затем в аспирантуру Московского института философии, литературы и истории имени Николая Чернышевского, начал печататься в журналах, первые две поэмы «Павел Чёрный», о строителях Беломорско-Балтийского канала - итог творческой командировки, и «Ледовое побоище». Вспоминал: «Желание написать эту поэму явилось в связи с ощущением приближающейся войны, хотел, чтоб прочитавшие почувствовали, что за плечами русского народа стоит многовековая борьба за свою независимость». И новая командировка: на Халхин-Гол, где в 1939-м красноармейцы сражались с японскими милитаристами, не просто поэт, а корреспондент газеты «Героическая красноармейская» - и вот слились воедино военное призвание по линии отца и отчима, литературное от мамы - военный, фронтовой корреспондент, и спецкурсы для того окончены при Военной академии имени Михаила Фрунзе и Военно-политической академии, интендант второго ранга.
В Великую Отечественную стал корреспондентом «Боевого знамени», после - «Красной звезды», фронтовые командировки. В первую же, от «Боевого знамени», оказался в буре сражений - за Могилёв, расположение 388-го полка 172-й стрелковой дивизии первого формирования (во втором формировании дивизия с таким номером будет сражаться на Перекопе, и Константин Симонов тоже побывает в её расположении). Тем полком в боях за Могилёв командовал Семён Кутепов - спустя два десятилетия поэт напишет роман «Живые и мёртвые», воплотив образ комполка в комбриге Серпилине. Семён Фёдорович погиб в июле 1941-го, официально - пропал без вести при прорыве из окружения. Оставивший память о нём в книге Константин Михайлович выжил тогда чудом, за несколько часов до того, как кольцо сомкнулось окончательно, сумев вырваться в редакцию, дошагал до Победы, звание Героя Социалистического Труда получил за роман. И ещё стихотворение об одном из бойцов того погибшего полка: наводчике Сергее Полякове, стихотворение «Презрение к смерти» - продиктовал его по полевому телефону в редакцию «Красной звезды» опубликовано там 24 июля 1941-го. «Надолго был задержан враг,/ Пять танков - пять костров!/ Учись, товарищ, делать так,/ Как сделал Поляков./ Учись, как нужно презирать/ Опасности в бою, / И если надо - умирать/ За Родину свою». О судьбе полка, о его гибели, Константин Симонов узнал уже после войны. А в августе 1979-го над тем самым полем сражений, Буйническим, где было первое боевое крещение военкора в Великую Отечественную, где не смог прорваться из окружения и остался навеки 388-й полк Семёна Кутепова, развеяли прах поэта и писателя Константина Симонова - он так завещал, «всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года…».
Вернувшись в Москву из того ужаса, Константин Симонов написал, пожалуй, самое известное его стихотворение, актуальное и важное и в боях, и в жизни - «Жди меня», он посвятил его любимой актрисе Валентине Серовой. «Жди меня, и я вернусь,/ Всем смертям назло./ Кто не ждал меня, тот пусть/ Скажет: - Повезло./ Не понять, не ждавшим им,/ Как среди огня/ Ожиданием своим/ Ты спасла меня». Он читал эти стихи бойцам при личных встречах на фронте, они запоминали, переписывали и отправляли домой в солдатских треугольничках, страна вся повторяла «Ожиданием своим ты спасла меня!». Потом стихи опубликовала газета «Правда», до того Константин Симонов, на краткий миг оказавшийся в Москве, прочёл стих по радио, между выпусками Совинформбюро, а чуть раньше читал его у нас в Крыму, бойцам 44-й армии Керченско-Феодосийского десанта.
Полуостров поэта
В Крым Константин Симонов впервые приехал после Халхин-Гола, в 1939-м, конечно, в Севастополь, город отмечал 85-летие начала первой обороны в Крымскую войну. «Уж сотый день врезаются гранаты/ В Малахов окровавленный курган,/ И рыжие британские солдаты/ Идут на штурм под хриплый барабан». Через два года, уже новая война - Великая Отечественная, в городе-герое вскоре начнётся вторая оборона, а пока ещё август, военкор безуспешно добивается возможности вылететь на бомбардировщике на задание в район румынского аэродрома Плоешта (его просто пожалели - возвращались не все), а потом с экипажем подлодки отправляется на иное боевое, с трудом переживая замкнутость пространства, но очерк «У берегов Румынии» появляется по возвращению. А потом Перекоп, Чонгар, Арабатская стрелка, 172 стрелковая (второго формирования, она же - 3-я Крымская) дивизия, наша 51-я отдельная армия (товарищи из «Сына Отечества», «Красного Крыма», с которыми воевал и на Северо-Кавказском, Сталинградском и Южном фронтах, стихотворение о военкорах - «С «лейкой» и с блокнотом,/А то и с пулемётом/ Сквозь огонь и стужу мы прошли»). Жесточайшие бои напоминали военкору происходившее в начале войны в Белорусской ССР, он, привычно, не отсиживался - и в атаку пехоту поднимал как старший по званию, за линию фронта с разведгруппой ходил. И новые очерки - «Девушка с соляного промысла», «Третий адъютант» - о члене Военсовета 51-й армии Андрее Николаеве, корпусном комиссаре, твёрдо уверенном, что «храбрые реже погибают». Ошибался Андрей Семёнович, увы, погиб в июне 1942-го в боях за Харьков. На основе крымских дневников Константин Симонов позже написал повесть «Пантелеев» - о роте (127-я морская батарея лейтенанта Василия Ковшова), погибшей на Арабатской стрелке, о Паше Анощенко, «не успевшей переобмундироваться девушке в выцветшем платье и косынке, возившей под огнём противника миномёты, прицепив их к своей пробитой осколками полуторке». Новый 1942 год Константин Симонов встретил в Ленинском районе, в Феодосии с бойцами 44-й армии, писал о них очерки - «Последняя ночь», «В керченских каменоломнях», стихотворение «Дожди»: «Среди развалин Джантары,/ Вдоль южной глиняной ограды,/ Как в кегельбане для игры,/ Стоят забытые снаряды./ Что танки у села Корпеча/ Стоят в грязи, а дождь всё льёт». Карпечь (Птичное) и Джантара (Львово), тяжелейшие бои по весне 1942-го, Крымский фронт, гибель командарма 51-й Владимира Львова, Константин Михайлович очень уважал Владимира Николаевича. А самого военкора тогда наградили орденом Красного Знамени «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество».
Победу Константин Симонов встретил в Карлсхорсте, присутствовал на подписании Георгием Жуковым акта о безоговорочной капитуляции Германии. Кстати, его «Жди меня, и я вернусь» в ночь на 17 марта 2014 года появилось на сайте Министерства иностранных дел России - только объявлены результаты референдума Крымской весны. Военкор, фронтовик, поэт, писатель был бы не против, конечно, ведь Крым, держава - это было и его, родное. Помним!
Константин Симонов. Фото с портала «Память народа». Мы продолжаем вспоминать жизнь и людей советской эпохи, оставивших заметный след в истории, культуре, политике нашей державы, на все времена. Узнавать что-то неизвестное или забытое, незнакомое - о знакомых. Этого поэта можно, без сомнения, назвать и другом «Крымской правды», ведь дружба та, доброе отношение, зародились ещё в Великую Отечественную, ещё когда газета называлась «Красный Крым». Но даже не с неё, всё же вначале, а с изданием сформированной в Крыму 51-й армии «Сын Отечества». Его основу и составляли «краснокрымовцы», точно знаем, Мария Архарова, Михаил Соловьёв, Леонид Яблонский - с фотокором поэт потом неоднократно встречался на фронте. Поэт - Константин Симонов - приезжал в Крым и после войны, был гостем нашей газеты как секретарь Союза писателей СССР. 15 ноября (по старому стилю) исполняется 110 лет со дня рождения Константина Михайловича. Война и литература Правда, изначально при рождении мальчик, сын дворянина, генерал-майора Михаила Агафангеловича и княжны Александры Леонидовны, был Кириллом, так родители назвали его, родившегося в Петрограде 15 ноября (28-го по новому стилю) 1915-го. Константином стал сам уже в 24 - переживал, что так и не научился выговаривать твёрдое «л» и «р», буквы имени. Мальчик рано остался без отца, который служил начальником штаба 43-го армейского корпуса в Первую мировую войну, в нашей стране с октября 1917-го перетёкшую в Гражданскую: принимать революцию и воевать за или против неё боевой офицер Михаил Агафангелович не захотел, эмигрировал. Александра Леонидовна осталась с маленьким сыном уже в Советской России, вышла замуж за Александра Иванишева, преподавателя военного училища, бывшего полковника имперской армии. Считается, что именно полюбивший и усыновивший мальчика Александр Григорьевич настоял, чтобы фамилия у парня была родного отца - Симонов. И от родного, и от отчима Кирилл-Константин перенял тягу к военной службе, а от мамы, княжны Оболенской, перешёл литературный дар. Жизнь семьи проходила в основном в военных городках, но, несмотря на тягу к военной службе и окружение, после школы-семилетки, оконченной в Саратове, Кирилл Симонов поехал в Москву, в фабрично-заводское училище точной механики, несколько лет поработал на авиационном заводе - тоже военное дело. Потом, понимая тягу к творчеству и желая заниматься ею профессионально, поступил в Литературный институт имени Максима Горького, затем в аспирантуру Московского института философии, литературы и истории имени Николая Чернышевского, начал печататься в журналах, первые две поэмы «Павел Чёрный», о строителях Беломорско-Балтийского канала - итог творческой командировки, и «Ледовое побоище». Вспоминал: «Желание написать эту поэму явилось в связи с ощущением приближающейся войны, хотел, чтоб прочитавшие почувствовали, что за плечами русского народа стоит многовековая борьба за свою независимость». И новая командировка: на Халхин-Гол, где в 1939-м красноармейцы сражались с японскими милитаристами, не просто поэт, а корреспондент газеты «Героическая красноармейская» - и вот слились воедино военное призвание по линии отца и отчима, литературное от мамы - военный, фронтовой корреспондент, и спецкурсы для того окончены при Военной академии имени Михаила Фрунзе и Военно-политической академии, интендант второго ранга. В Великую Отечественную стал корреспондентом «Боевого знамени», после - «Красной звезды», фронтовые командировки. В первую же, от «Боевого знамени», оказался в буре сражений - за Могилёв, расположение 388-го полка 172-й стрелковой дивизии первого формирования (во втором формировании дивизия с таким номером будет сражаться на Перекопе, и Константин Симонов тоже побывает в её расположении). Тем полком в боях за Могилёв командовал Семён Кутепов - спустя два десятилетия поэт напишет роман «Живые и мёртвые», воплотив образ комполка в комбриге Серпилине. Семён Фёдорович погиб в июле 1941-го, официально - пропал без вести при прорыве из окружения. Оставивший память о нём в книге Константин Михайлович выжил тогда чудом, за несколько часов до того, как кольцо сомкнулось окончательно, сумев вырваться в редакцию, дошагал до Победы, звание Героя Социалистического Труда получил за роман. И ещё стихотворение об одном из бойцов того погибшего полка: наводчике Сергее Полякове, стихотворение «Презрение к смерти» - продиктовал его по полевому телефону в редакцию «Красной звезды» опубликовано там 24 июля 1941-го. «Надолго был задержан враг,/ Пять танков - пять костров!/ Учись, товарищ, делать так,/ Как сделал Поляков./ Учись, как нужно презирать/ Опасности в бою, / И если надо - умирать/ За Родину свою». О судьбе полка, о его гибели, Константин Симонов узнал уже после войны. А в августе 1979-го над тем самым полем сражений, Буйническим, где было первое боевое крещение военкора в Великую Отечественную, где не смог прорваться из окружения и остался навеки 388-й полк Семёна Кутепова, развеяли прах поэта и писателя Константина Симонова - он так завещал, «всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года…». Вернувшись в Москву из того ужаса, Константин Симонов написал, пожалуй, самое известное его стихотворение, актуальное и важное и в боях, и в жизни - «Жди меня», он посвятил его любимой актрисе Валентине Серовой. «Жди меня, и я вернусь,/ Всем смертям назло./ Кто не ждал меня, тот пусть/ Скажет: - Повезло./ Не понять, не ждавшим им,/ Как среди огня/ Ожиданием своим/ Ты спасла меня». Он читал эти стихи бойцам при личных встречах на фронте, они запоминали, переписывали и отправляли домой в солдатских треугольничках, страна вся повторяла «Ожиданием своим ты спасла меня!». Потом стихи опубликовала газета «Правда», до того Константин Симонов, на краткий миг оказавшийся в Москве, прочёл стих по радио, между выпусками Совинформбюро, а чуть раньше читал его у нас в Крыму, бойцам 44-й армии Керченско-Феодосийского десанта. Полуостров поэта В Крым Константин Симонов впервые приехал после Халхин-Гола, в 1939-м, конечно, в Севастополь, город отмечал 85-летие начала первой обороны в Крымскую войну. «Уж сотый день врезаются гранаты/ В Малахов окровавленный курган,/ И рыжие британские солдаты/ Идут на штурм под хриплый барабан». Через два года, уже новая война - Великая Отечественная, в городе-герое вскоре начнётся вторая оборона, а пока ещё август, военкор безуспешно добивается возможности вылететь на бомбардировщике на задание в район румынского аэродрома Плоешта (его просто пожалели - возвращались не все), а потом с экипажем подлодки отправляется на иное боевое, с трудом переживая замкнутость пространства, но очерк «У берегов Румынии» появляется по возвращению. А потом Перекоп, Чонгар, Арабатская стрелка, 172 стрелковая (второго формирования, она же - 3-я Крымская) дивизия, наша 51-я отдельная армия (товарищи из «Сына Отечества», «Красного Крыма», с которыми воевал и на Северо-Кавказском, Сталинградском и Южном фронтах, стихотворение о военкорах - «С «лейкой» и с блокнотом,/А то и с пулемётом/ Сквозь огонь и стужу мы прошли»). Жесточайшие бои напоминали военкору происходившее в начале войны в Белорусской ССР, он, привычно, не отсиживался - и в атаку пехоту поднимал как старший по званию, за линию фронта с разведгруппой ходил. И новые очерки - «Девушка с соляного промысла», «Третий адъютант» - о члене Военсовета 51-й армии Андрее Николаеве, корпусном комиссаре, твёрдо уверенном, что «храбрые реже погибают». Ошибался Андрей Семёнович, увы, погиб в июне 1942-го в боях за Харьков. На основе крымских дневников Константин Симонов позже написал повесть «Пантелеев» - о роте (127-я морская батарея лейтенанта Василия Ковшова), погибшей на Арабатской стрелке, о Паше Анощенко, «не успевшей переобмундироваться девушке в выцветшем платье и косынке, возившей под огнём противника миномёты, прицепив их к своей пробитой осколками полуторке». Новый 1942 год Константин Симонов встретил в Ленинском районе, в Феодосии с бойцами 44-й армии, писал о них очерки - «Последняя ночь», «В керченских каменоломнях», стихотворение «Дожди»: «Среди развалин Джантары,/ Вдоль южной глиняной ограды,/ Как в кегельбане для игры,/ Стоят забытые снаряды./ Что танки у села Корпеча/ Стоят в грязи, а дождь всё льёт». Карпечь (Птичное) и Джантара (Львово), тяжелейшие бои по весне 1942-го, Крымский фронт, гибель командарма 51-й Владимира Львова, Константин Михайлович очень уважал Владимира Николаевича. А самого военкора тогда наградили орденом Красного Знамени «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество». Победу Константин Симонов встретил в Карлсхорсте, присутствовал на подписании Георгием Жуковым акта о безоговорочной капитуляции Германии. Кстати, его «Жди меня, и я вернусь» в ночь на 17 марта 2014 года появилось на сайте Министерства иностранных дел России - только объявлены результаты референдума Крымской весны. Военкор, фронтовик, поэт, писатель был бы не против, конечно, ведь Крым, держава - это было и его, родное. Помним!