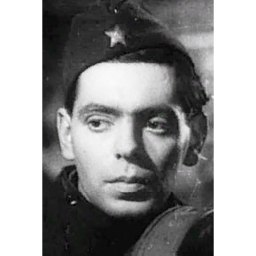✔ Мир великого романтика Грина - «Общество Крыма»
Феодосья 13-сен, 07:30 193 Новости АРК / Общество - Крыма.Погрузиться в него приглашает Феодосийский литературно-мемориальный музей писателя, которому исполнилось 55 лет.
- Дом, в котором писатель жил и работал с 1924-го по 1929 год - это наша история, которую мы бережно храним, чтобы передать идущим за нами поколениям, - говорит научный сотрудник музея Наталья Кошелева. - Грин не остался в прошлом, он будет жить во все времена.
- Создание музея в Феодосии было делом нелёгким, не так ли?
- Вы правы. Было немало трудностей, но их преодолели, и в 1970 году авторам экспозиции Феодосийского музея Геннадию Ивановичу Золотухину и Савве Григорьевичу Бродскому удалось воссоздать волшебный, фантастический мир писателя, мир надежды, мир сбывшейся мечты, символом которой был и остаётся алый парус. И этот мир, как память о создателях, трепетно хранят сотрудники музея.
- О музее наша газета рассказывала не раз и очень подробно. В тени остались взаимоотношения писателя с гостями. А что их было много, свидетельствует мемориальная табличка на стене дома-корабля. Кого бы вы выделили?
- Вопросы посетителей о Грине и поэте, художнике, философе Максимилиане Волошине побудили меня подробно изучить, как развивались отношения двух разных по характеру и творческому стилю писателей, которых объединила эпоха Серебряного века.
- А свёл ведь их Крым?
- Да, поводом для знакомства стало решение Грина переехать в Крым. Выбор пал на Феодосию, и Александр Степанович пришёл за советом к поэту, который в это время был в Ленинграде по издательским делам.
- Они сразу приглянулись друг другу?
- Отнюдь! Первая встреча с Волошиным обескуражила Александра Степановича. Грин воспринял Максимилиана Александровича «парадоксолистом», который «ради острого словца не щадил никого и ничего». Соответственно характеризовались Грином и стихи Волошина: «Холодны, мастерство разума, знания законов поэзии, а не души». Понадобилось два года, чтобы этот, по словам жены писателя Нины Грин, «лакомка и практичный в жизни хитрец» стал «понятен и интересен» Александру Степановичу. В последних числах января 1926 года, при посещении Грина Волошин прочёл несколько своих стихотворений, завершив их поэмой «Россия» 1924 года - «С Руси тянуло выстуженным ветром…». «Взволнованный своими стихами», поэт «неожиданно расплакался», - вспоминала Нина Николаевна. - Мы оба также взволновались, но не стихами, а его волнением, и стал он нам сразу мил, как родной».
- Что же стало точкой опоры в их отношениях?
- Любовь к литературному творчеству пробудила тёплые дружеские нотки. Будучи по натуре созерцателем-философом, как заметила художница Анна Остроумова-Лебедева, обладающим жаждой общения и умеющим расположить к себе любого, Максимилиан Волошин ценил в Александре Грине интересного и чуткого собеседника. Мария Степановна Волошина рассказывала, что «Максимилиан Александрович «любил разговаривать с Грином, делал с ним большие прогулки».
- И интерес к творчеству тоже сыграл свою роль?
- Конечно. В произведениях Грина Максимилиан Александрович находил «совсем неожиданную тонкость и деликатность образа». Волошин ценил Александра Степановича как мастера слова, называл его рафинированным романтиком, многое внёсшим в русскую литературу. Нина Николаевна Грин отмечала, что, как и Волошин, Грин «по натуре был мистификатор». Разница была лишь в том, что Максимилиан Александрович любил разыгрывать окружающих его людей, а Грин «как бы играл в собственную жизнь», «украшая её положениями, отвечающими его вкусу к изящному». «Играя, он всегда оставался зорким, холодным художником… Играет и сам на себя со стороны смотрит - «вот я какой есть - попробуйте!».
- Грин, в отличие от коктебельского приятеля, не стремился к широкому общению?
- Да, поэтому Александра Степановича и Нину Николаевну феодосийцы называли «мрачные Грины». Супруги были самодостаточны в общении друг с другом, явно стремились к уединению и тишине. Нина Николаевна признавалась: «В Феодосии мы жили уединённо… Мы наслаждались чувством семьи, скромного домашнего уюта; умели из всего извлечь радость. <…> Возможно, что в глубинах нашего существа задержалось детство. И у Александра Степановича, и у меня оно, неизжитое из-за нужды, окончилось очень рано. Не знаю, что это было, но оно украшало нашу жизнь». Но когда в доме появлялся энергичный, общительный Максимилиан Волошин, у них становилось весело. Нельзя не отметить, что, будучи тонкими психологами, замкнутый Грин и общительный Волошин, имевший много очень близких друзей, обладали одной особенностью характера: делать недоступными глубины своего сокровенного внутреннего мира для других, испытывая при этом интерес к каждому человеку. Частая гостья дома поэта художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева вспоминала: «Волошин очень любил человека. Чувствовал тяготение к нему, какое-то влечение познать другого. Но в то же время <…> он ни с кем никогда не был откровенен до конца. В глубины своего «я» он никому не давал заглянуть». Грин «никогда о себе не распространялся», - писал в своих мемуарах писатель Михаил Слонимский, он «не любил говорить о себе и о своих душевных настроениях». Александр Степанович пояснял: «Внутренний мир наш интересен немногим» (рассказ «Крысолов»). Признавался: «Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал». Философия жизни Волошина в том, что он ценил в человеке не только его творческий талант, а и саму личность, его индивидуальность. Каждый человек ему был дорог. Он хранил все мелочи, принесённые в дом гостями. Среди них - камень, подаренный Грином во время его последнего посещения Коктебеля 22 апреля 1931 года, на котором Волошин написал: «дар Грина». Словно знал, что это их последняя встреча. Этот камешек, простую гальку, он хранил, как драгоценность, на письменном столе в зимнем кабинете. Добрые искренние отношения писателей подтверждает уважительное и ласковое обращение в каждом письме Александра Степановича, заканчивающимся неизменным - «ваш Грин». Как отметила старший научный сотрудник музея Грина Людмила Варламова: «Из писем Грина можно составить яркое впечатление о писателе как о личности. В них достаточно выразительно и зримо вырисовывается его образ. Весь тон писем выявляет и раскрывает перед нами самые сокровенные стороны его ума и души». Грин «был мечтателем и писал книги о мечтателях, потому что хотел людям много добра, солнца и счастья» - отмечал писатель Иван Соколов-Микитов. А журналист Николай Вержбицкий свидетельствовал: «Он всегда повторял, что запрещать мечту - это значит не верить в счастье, а не верить в счастье - значит не жить». Сегодня, давая оценку событиям прошлого и нашим предшественникам, как хранители памяти и истории, мы должны быть достоверными и беспристрастными, ставя во главу угла то, какой след человек оставил после себя.
«Если потомки захотят меня хорошо узнать, пусть внимательно меня читают, я всего себя вложил в свои произведения» - говорил Александр Степанович. И его книги остаются востребованными, их читают если и не от мала, то с юности и до велика.
А в стенах Феодосийского музея сохраняется атмосфера, дух времени и хозяина этой обители.
Обитель писателя-романтика сегодня. Фото автора. Погрузиться в него приглашает Феодосийский литературно-мемориальный музей писателя, которому исполнилось 55 лет. - Дом, в котором писатель жил и работал с 1924-го по 1929 год - это наша история, которую мы бережно храним, чтобы передать идущим за нами поколениям, - говорит научный сотрудник музея Наталья Кошелева. - Грин не остался в прошлом, он будет жить во все времена. - Создание музея в Феодосии было делом нелёгким, не так ли? - Вы правы. Было немало трудностей, но их преодолели, и в 1970 году авторам экспозиции Феодосийского музея Геннадию Ивановичу Золотухину и Савве Григорьевичу Бродскому удалось воссоздать волшебный, фантастический мир писателя, мир надежды, мир сбывшейся мечты, символом которой был и остаётся алый парус. И этот мир, как память о создателях, трепетно хранят сотрудники музея. - О музее наша газета рассказывала не раз и очень подробно. В тени остались взаимоотношения писателя с гостями. А что их было много, свидетельствует мемориальная табличка на стене дома-корабля. Кого бы вы выделили? - Вопросы посетителей о Грине и поэте, художнике, философе Максимилиане Волошине побудили меня подробно изучить, как развивались отношения двух разных по характеру и творческому стилю писателей, которых объединила эпоха Серебряного века. - А свёл ведь их Крым? - Да, поводом для знакомства стало решение Грина переехать в Крым. Выбор пал на Феодосию, и Александр Степанович пришёл за советом к поэту, который в это время был в Ленинграде по издательским делам. - Они сразу приглянулись друг другу? - Отнюдь! Первая встреча с Волошиным обескуражила Александра Степановича. Грин воспринял Максимилиана Александровича «парадоксолистом», который «ради острого словца не щадил никого и ничего». Соответственно характеризовались Грином и стихи Волошина: «Холодны, мастерство разума, знания законов поэзии, а не души». Понадобилось два года, чтобы этот, по словам жены писателя Нины Грин, «лакомка и практичный в жизни хитрец» стал «понятен и интересен» Александру Степановичу. В последних числах января 1926 года, при посещении Грина Волошин прочёл несколько своих стихотворений, завершив их поэмой «Россия» 1924 года - «С Руси тянуло выстуженным ветром…». «Взволнованный своими стихами», поэт «неожиданно расплакался», - вспоминала Нина Николаевна. - Мы оба также взволновались, но не стихами, а его волнением, и стал он нам сразу мил, как родной». - Что же стало точкой опоры в их отношениях? - Любовь к литературному творчеству пробудила тёплые дружеские нотки. Будучи по натуре созерцателем-философом, как заметила художница Анна Остроумова-Лебедева, обладающим жаждой общения и умеющим расположить к себе любого, Максимилиан Волошин ценил в Александре Грине интересного и чуткого собеседника. Мария Степановна Волошина рассказывала, что «Максимилиан Александрович «любил разговаривать с Грином, делал с ним большие прогулки». - И интерес к творчеству тоже сыграл свою роль? - Конечно. В произведениях Грина Максимилиан Александрович находил «совсем неожиданную тонкость и деликатность образа». Волошин ценил Александра Степановича как мастера слова, называл его рафинированным романтиком, многое внёсшим в русскую литературу. Нина Николаевна Грин отмечала, что, как и Волошин, Грин «по натуре был мистификатор». Разница была лишь в том, что Максимилиан Александрович любил разыгрывать окружающих его людей, а Грин «как бы играл в собственную жизнь», «украшая её положениями, отвечающими его вкусу к изящному». «Играя, он всегда оставался зорким, холодным художником… Играет и сам на себя со стороны смотрит - «вот я какой есть - попробуйте!». - Грин, в отличие от коктебельского приятеля, не стремился к широкому общению? - Да, поэтому Александра Степановича и Нину Николаевну феодосийцы называли «мрачные Грины». Супруги были самодостаточны в общении друг с другом, явно стремились к уединению и тишине. Нина Николаевна признавалась: «В Феодосии мы жили уединённо… Мы наслаждались чувством семьи, скромного домашнего уюта; умели из всего извлечь радость. Возможно, что в глубинах нашего существа задержалось детство. И у Александра Степановича, и у меня оно, неизжитое из-за нужды, окончилось очень рано. Не знаю, что это было, но оно украшало нашу жизнь». Но когда в доме появлялся энергичный, общительный Максимилиан Волошин, у них становилось весело. Нельзя не отметить, что, будучи тонкими психологами, замкнутый Грин и общительный Волошин, имевший много очень близких друзей, обладали одной особенностью характера: делать недоступными глубины своего сокровенного внутреннего мира для других, испытывая при этом интерес к каждому человеку. Частая гостья дома поэта художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева вспоминала: «Волошин очень любил человека. Чувствовал тяготение к нему, какое-то влечение познать другого. Но в то же время он ни с кем никогда не был откровенен до конца. В глубины своего «я» он никому не давал заглянуть». Грин «никогда о себе не распространялся», - писал в своих мемуарах писатель Михаил Слонимский, он «не любил говорить о себе и о своих душевных настроениях». Александр Степанович пояснял: «Внутренний мир наш интересен немногим» (рассказ «Крысолов»). Признавался: «Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал». Философия жизни Волошина в том, что он ценил в человеке не только его творческий талант, а и саму личность, его индивидуальность. Каждый человек ему был дорог. Он хранил все мелочи, принесённые в дом гостями. Среди них - камень, подаренный Грином во время его последнего посещения Коктебеля 22 апреля 1931 года, на котором Волошин написал: «дар Грина». Словно знал, что это их последняя встреча. Этот камешек, простую гальку, он хранил, как драгоценность, на письменном столе в зимнем кабинете. Добрые искренние отношения писателей подтверждает уважительное и ласковое обращение в каждом письме Александра Степановича, заканчивающимся неизменным - «ваш Грин». Как отметила старший научный сотрудник музея Грина Людмила Варламова: «Из писем Грина можно составить яркое впечатление о писателе как о личности. В них достаточно выразительно и зримо вырисовывается его образ. Весь тон писем выявляет и раскрывает перед нами самые сокровенные стороны его ума и души». Грин «был мечтателем и писал книги о мечтателях, потому что хотел людям много добра, солнца и счастья» - отмечал писатель Иван Соколов-Микитов. А журналист Николай Вержбицкий свидетельствовал: «Он всегда повторял, что запрещать мечту - это значит не верить в счастье, а не верить в счастье - значит не жить». Сегодня, давая оценку событиям прошлого и нашим предшественникам, как хранители памяти и истории, мы должны быть достоверными и беспристрастными, ставя во главу угла то, какой след человек оставил после себя. «Если потомки захотят меня хорошо узнать, пусть внимательно меня читают, я всего себя вложил в свои произведения» - говорил Александр Степанович. И его книги остаются востребованными, их читают если и не от мала, то с юности и до велика. А в стенах Феодосийского музея сохраняется атмосфера, дух времени и хозяина этой обители.