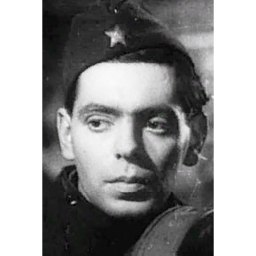✔ Спасение и наказание - «Общество Крыма»
Anderson 13-окт, 07:30 193 Новости АРК / Общество - Крыма.Он 120 лет назад окончил Таврическую духовную семинарию, но служение не выбрал, революционные идеи увлекли. Поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но не чуждый гуманитарным наукам, посещал лекции по истории искусств. Адвокат, писарь-участник Первой мировой, а в Гражданскую войну в Симферополе - юрист, помогавший людям «за немного еды». Как знаток искусств помог новой власти в национализации художественных ценностей. И связал жизнь с музеями, директор Центрального музея Тавриды (Центрального музея Крыма, Крымского краеведческого) с 1921-го по 1931-й и с ноября 1941-го по май 1944-го. Спас часть коллекции, но в итоге получил 5 лет лагерей. Мы вспоминаем Александра Полканова и главный музей полуострова в Великую Отечественную.
Журналист и краевед
Имя парню, родившемуся в селении Сали (ныне Грушевка) Феодосийского уезда 141 год назад, 3 августа, по старому стилю, 1884 года, выбрали сразу - Александр, защитник, в честь Святого Александра Невского и обоих дедушек. Сын священника Иоанна Александровича и домохозяйки Ольги Александровны рос любознательным. Семинаристом выпускал рукописный журнал «Заря», правда, содержание отнюдь не духовное, больше революционная пропаганда. Студентом, временно, из-за забастовок в университете, живя в Симферополе, писал для «Голоса Тавриды». После установления на полуострове большевистской власти вместе с краеведами Арсением Маркевичем и Николаем Эрнстом редактировал первый советский «Путеводитель по Крыму». А сто лет назад выпустил своё иллюстрированное, подробнейшее, с прекрасной картой, издание - «Пешком по Крыму». Отрывки публиковались и в нашей газете, тогда «Красном Крыму». И ещё путеводители Александра Полканова, - по Ялте и окрестностям, по Судаку, Феодосии… Изучал города на месте, подробно, а попутно помогал властям сохранять ценности из опустевших имений. Создатель Комитета по делам музеев и охраны памятников искусства, руководитель Центрального музея Крыма, основанного 104 года назад на базе Музея древностей Таврической учёной архивной комиссии и Естественно-исторического музея Таврического губернского земства - богатейшая и постоянно пополняемая коллекция. Незадолго до Великой Отечественной Александр Полканов преподавал историю искусств в Художественном училище имени Николая Самокиша, был замдиректора панорамы «Штурм Перекопа», а с конца августа 1941-го готовил к эвакуации коллекции Алупкинского и Бахчисарайского дворцов-музеев.
Фальшивые стены
Его родной Центральный музей к эвакуации начали готовить в сентябре первого военного года. Благодаря исследованию Дмитрия Журавлёва, заведующего научно-методическим отделом музея, знаем, кто за полтора месяца тяжелейшей работы смог подготовить к эвакуации (уже только морем, под налётами врага) «6 сундуков и 41 ящик» с экспонатами: «исполняющий обязанности директора А. С. Дойч, заведующая историческим отделом Т. Я. Кобец, научный сотрудник Н. И. Ярычевская, заведующий хозяйством Ф. В. Сестрицин, бухгалтер П. Г. Формин, препаратор И. Т. Глобенко». Из исследования архивиста Сергея Андросова узнаём: около 20 тысяч экспонатов («14972 старинных монеты, 1319 единиц учёта археологического материала, 1193 предмета этнографии, 3837 книг из библиотеки «Таврика» и бывшей библиотеки крымского историка Александра Бертье-Делагарда») смог уполномоченный Наркомата просвещения Александр Шиндель вывезти в Армавир, казалось, тыл… Увы, в августе 1942-го фашисты оккупировали и его, крымские музейные ценности, хранившиеся на железнодорожном складе, разграблены.
Но и в самом музее много осталось - «коллекции отдела природы, которые просто не могли выдержать перевозку; громоздкие вещи археологического и этнографического отделов и иные оставлены в Симферополе с решением по возможности их сохранить». Выставленные в пищевой промышленности консервы отдали симферопольцам, резонно рассудив, что после войны экспозицию пополнят, а людям пригодится. Так потом с мединструментами, годными медикаментами из фонда народного здравоохранения поступил и Александр Полканов, передав партизанам, с которыми музейщики поддерживали связь через подпольщиков. Остальное, что возможно, старались прятать. Хранитель Александр Дойч (в этом году 70 лет, как не стало Александра Степановича), служивший ещё в Естественно-историческом музее, вместе с научным сотрудником Евгением Сакуном и сторожем Подлинным спрятали в каменном сарае, накрыв брезентом и завалив мусором, экспонаты Советского отдела, бюсты вождей, фотографии, знамёна. В музее (тогда на улице Пушкинской, 18) с помощью препаратора Исидора Глобенко и столяра Шлыкова устроили тайники, фальшивые стены из фанеры, побелённые известью. Там спрятали наиболее ценные археологические и этнографические экспонаты, эскизы Николая Самокиша, фарфор. Позже в тайник Александр Полканов поместит «два ящика с картинами Русского музея, экспонировавшимися в Алупкинском дворце, два ящика с картинами Константина Богаевского, три ящика с картинами и автопортретом Ивана Айвазовского, вывезенные немцами из квартиры вдовы художника Анны Никитичны; сундук с нумизматической коллекцией Феодосийского краеведческого музея» - смог, с помощью военнопленного шофёра В. Иваницкого забрать их со склада художественных ценностей, подготовленных к вывозу в Германию».
Александра Полканова вернуться на должность директора просили сотрудники музея в ноябре 1941-го. Не возражал, и, как мог, спасал людей, на работу в музей (фашисты не закрыли, но грабили активно) принимал комсомольцев и коммунистов, что были связаны с народными мстителями; на основе этнографических и исторических исследований обосновал тюркское, а не иудейское происхождение караимов, помог народу спастись от массовых фашистских казней. А 23 апреля 1944-го, через 10 дней после освобождения Симферополя, в нашем «Красном Крыму» появилась его статья «Грабители», рассказывавшая, как грабить музей начали фашистские солдаты, «бравшие всё подряд - от исторических костюмов до музыкальных инструментов». «Вслед за солдатами явилась группа офицеров и похитила гарнитур старинной мебели из карельской берёзы. Вскоре в музей заявился унтер-штурмфюpep СС «профессор» Карасек, руководитель гестапо по уничтожению населения. Он навесил на двери музея бумажку, сказав, что, увидев её, никто из немцев в музей не войдёт, но от этого ничего не изменилось - за грабёж принялся сам «профессор». Он похитил около 300 книг из библиотеки Крымоведения, несколько старинных икон ХVII века, филигранные серебряные изделия, два кавказских кинжала и в качестве чадолюбивого папаши - детские игрушки. После отъезда «профессора» на Кубань руководитель крымской группы «Эйнзацштаба Розенберга» Шмидт отправил в Германию ряд образцов крымской продукции из отдела соцстроительства, а, уезжая из Крыма, увёз «на память» гарнитур старинной мебели красного дерева. Главнокомандующий германскими войсками в Крыму генерал Клейст соблазнился гарнитуром дубовой мебели. Зондерфюрер отдела пропаганды и по совместительству сотрудник Венского музея народонаселения доктор Манц утащил несколько икон, книги по нумизматике, ткани, одежду, серебряные филигранные изделия, медную посуду из этнографического отдела, 30 старинных татарских вышивок, предоставленных Бахчисарайским и Евпаторийским музеями, бытовые вещи из отдела соцстроительства, включая даже… женские бюстгальтеры. Последнее посещение музея немецкими грабителями состоялось в феврале сего, 1944, года. Из штаба немецкого верховного командования явились 3 офицера. Один из них - капитан Науман - приказал солдатам снять со стен 6 картин и 4 рисунка, которые унёс с собой. Лишь стремительное наступление Красной Армии спасло наш музей от полного разграбления».
Тайники музейщики вскрыли уже 14 апреля, на следующий день после освобождения города, стали собирать экспозиции, благодарности получили за сохранность. И Александр Полканов получил благодарность, а меньше, чем через месяц, 11 мая, его обвинили в «пособничестве фашистам», мол, не препятствовал, когда грабили, да и вообще, в своё время о готах писал, которых гитлеровцы почитали. Пять лет лагерей. Для Александра Ивановича это был не первый арест, но самый долгий: на 10 дней арестовывали в 1921-м - «до революции поддерживавшего меньшевиков»; на год в 1938-м - «за контрреволюцию», отпустили за недоказанностью. В этот раз полностью реабилитировали лишь в 1956-м, но и отсидев до 1949-го, и позже, после реабилитации, к работе в музее уже не вернулся, преподавал в художественном училище. Не стало Александра Полканова 7 августа 1971-го. Помним!
Александр Полканов и его статья в нашей газете. Фотоколлаж автора. Он 120 лет назад окончил Таврическую духовную семинарию, но служение не выбрал, революционные идеи увлекли. Поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но не чуждый гуманитарным наукам, посещал лекции по истории искусств. Адвокат, писарь-участник Первой мировой, а в Гражданскую войну в Симферополе - юрист, помогавший людям «за немного еды». Как знаток искусств помог новой власти в национализации художественных ценностей. И связал жизнь с музеями, директор Центрального музея Тавриды (Центрального музея Крыма, Крымского краеведческого) с 1921-го по 1931-й и с ноября 1941-го по май 1944-го. Спас часть коллекции, но в итоге получил 5 лет лагерей. Мы вспоминаем Александра Полканова и главный музей полуострова в Великую Отечественную. Журналист и краевед Имя парню, родившемуся в селении Сали (ныне Грушевка) Феодосийского уезда 141 год назад, 3 августа, по старому стилю, 1884 года, выбрали сразу - Александр, защитник, в честь Святого Александра Невского и обоих дедушек. Сын священника Иоанна Александровича и домохозяйки Ольги Александровны рос любознательным. Семинаристом выпускал рукописный журнал «Заря», правда, содержание отнюдь не духовное, больше революционная пропаганда. Студентом, временно, из-за забастовок в университете, живя в Симферополе, писал для «Голоса Тавриды». После установления на полуострове большевистской власти вместе с краеведами Арсением Маркевичем и Николаем Эрнстом редактировал первый советский «Путеводитель по Крыму». А сто лет назад выпустил своё иллюстрированное, подробнейшее, с прекрасной картой, издание - «Пешком по Крыму». Отрывки публиковались и в нашей газете, тогда «Красном Крыму». И ещё путеводители Александра Полканова, - по Ялте и окрестностям, по Судаку, Феодосии… Изучал города на месте, подробно, а попутно помогал властям сохранять ценности из опустевших имений. Создатель Комитета по делам музеев и охраны памятников искусства, руководитель Центрального музея Крыма, основанного 104 года назад на базе Музея древностей Таврической учёной архивной комиссии и Естественно-исторического музея Таврического губернского земства - богатейшая и постоянно пополняемая коллекция. Незадолго до Великой Отечественной Александр Полканов преподавал историю искусств в Художественном училище имени Николая Самокиша, был замдиректора панорамы «Штурм Перекопа», а с конца августа 1941-го готовил к эвакуации коллекции Алупкинского и Бахчисарайского дворцов-музеев. Фальшивые стены Его родной Центральный музей к эвакуации начали готовить в сентябре первого военного года. Благодаря исследованию Дмитрия Журавлёва, заведующего научно-методическим отделом музея, знаем, кто за полтора месяца тяжелейшей работы смог подготовить к эвакуации (уже только морем, под налётами врага) «6 сундуков и 41 ящик» с экспонатами: «исполняющий обязанности директора А. С. Дойч, заведующая историческим отделом Т. Я. Кобец, научный сотрудник Н. И. Ярычевская, заведующий хозяйством Ф. В. Сестрицин, бухгалтер П. Г. Формин, препаратор И. Т. Глобенко». Из исследования архивиста Сергея Андросова узнаём: около 20 тысяч экспонатов («14972 старинных монеты, 1319 единиц учёта археологического материала, 1193 предмета этнографии, 3837 книг из библиотеки «Таврика» и бывшей библиотеки крымского историка Александра Бертье-Делагарда») смог уполномоченный Наркомата просвещения Александр Шиндель вывезти в Армавир, казалось, тыл… Увы, в августе 1942-го фашисты оккупировали и его, крымские музейные ценности, хранившиеся на железнодорожном складе, разграблены. Но и в самом музее много осталось - «коллекции отдела природы, которые просто не могли выдержать перевозку; громоздкие вещи археологического и этнографического отделов и иные оставлены в Симферополе с решением по возможности их сохранить». Выставленные в пищевой промышленности консервы отдали симферопольцам, резонно рассудив, что после войны экспозицию пополнят, а людям пригодится. Так потом с мединструментами, годными медикаментами из фонда народного здравоохранения поступил и Александр Полканов, передав партизанам, с которыми музейщики поддерживали связь через подпольщиков. Остальное, что возможно, старались прятать. Хранитель Александр Дойч (в этом году 70 лет, как не стало Александра Степановича), служивший ещё в Естественно-историческом музее, вместе с научным сотрудником Евгением Сакуном и сторожем Подлинным спрятали в каменном сарае, накрыв брезентом и завалив мусором, экспонаты Советского отдела, бюсты вождей, фотографии, знамёна. В музее (тогда на улице Пушкинской, 18) с помощью препаратора Исидора Глобенко и столяра Шлыкова устроили тайники, фальшивые стены из фанеры, побелённые известью. Там спрятали наиболее ценные археологические и этнографические экспонаты, эскизы Николая Самокиша, фарфор. Позже в тайник Александр Полканов поместит «два ящика с картинами Русского музея, экспонировавшимися в Алупкинском дворце, два ящика с картинами Константина Богаевского, три ящика с картинами и автопортретом Ивана Айвазовского, вывезенные немцами из квартиры вдовы художника Анны Никитичны; сундук с нумизматической коллекцией Феодосийского краеведческого музея» - смог, с помощью военнопленного шофёра В. Иваницкого забрать их со склада художественных ценностей, подготовленных к вывозу в Германию». Александра Полканова вернуться на должность директора просили сотрудники музея в ноябре 1941-го. Не возражал, и, как мог, спасал людей, на работу в музей (фашисты не закрыли, но грабили активно) принимал комсомольцев и коммунистов, что были связаны с народными мстителями; на основе этнографических и исторических исследований обосновал тюркское, а не иудейское происхождение караимов, помог народу спастись от массовых фашистских казней. А 23 апреля 1944-го, через 10 дней после освобождения Симферополя, в нашем «Красном Крыму» появилась его статья «Грабители», рассказывавшая, как грабить музей начали фашистские солдаты, «бравшие всё подряд - от исторических костюмов до музыкальных инструментов». «Вслед за солдатами явилась группа офицеров и похитила гарнитур старинной мебели из карельской берёзы. Вскоре в музей заявился унтер-штурмфюpep СС «профессор» Карасек, руководитель гестапо по уничтожению населения. Он навесил на двери музея бумажку, сказав, что, увидев её, никто из немцев в музей не войдёт, но от этого ничего не изменилось - за грабёж принялся сам «профессор». Он похитил около 300 книг из библиотеки Крымоведения, несколько старинных икон ХVII века, филигранные серебряные изделия, два кавказских кинжала и в качестве чадолюбивого папаши - детские игрушки. После отъезда «профессора» на Кубань руководитель крымской группы «Эйнзацштаба Розенберга» Шмидт отправил в Германию ряд образцов крымской продукции из отдела соцстроительства, а, уезжая из Крыма, увёз «на память» гарнитур старинной мебели красного дерева. Главнокомандующий германскими войсками в Крыму генерал Клейст соблазнился гарнитуром дубовой мебели. Зондерфюрер отдела пропаганды и по совместительству сотрудник Венского музея народонаселения доктор Манц утащил несколько икон, книги по нумизматике, ткани, одежду, серебряные филигранные изделия, медную посуду из этнографического отдела, 30 старинных татарских вышивок, предоставленных Бахчисарайским и Евпаторийским музеями, бытовые вещи из отдела соцстроительства, включая даже… женские бюстгальтеры. Последнее посещение музея немецкими грабителями состоялось в феврале сего, 1944, года. Из штаба немецкого верховного командования явились 3 офицера. Один из них - капитан Науман - приказал солдатам снять со стен 6 картин и 4 рисунка, которые унёс с собой. Лишь стремительное наступление Красной Армии спасло наш музей от полного разграбления». Тайники музейщики вскрыли уже 14 апреля, на следующий день после освобождения города, стали собирать экспозиции, благодарности получили за сохранность. И Александр Полканов получил благодарность, а меньше, чем через месяц, 11 мая, его обвинили в «пособничестве фашистам», мол, не препятствовал, когда грабили, да и вообще, в своё время о готах писал, которых гитлеровцы почитали. Пять лет лагерей. Для Александра Ивановича это был не первый арест, но самый долгий: на 10 дней арестовывали в 1921-м - «до революции поддерживавшего меньшевиков»; на год в 1938-м - «за контрреволюцию», отпустили за недоказанностью. В этот раз полностью реабилитировали лишь в 1956-м, но и отсидев до 1949-го, и позже, после реабилитации, к работе в музее уже не вернулся, преподавал в художественном училище. Не стало Александра Полканова 7 августа 1971-го. Помним!